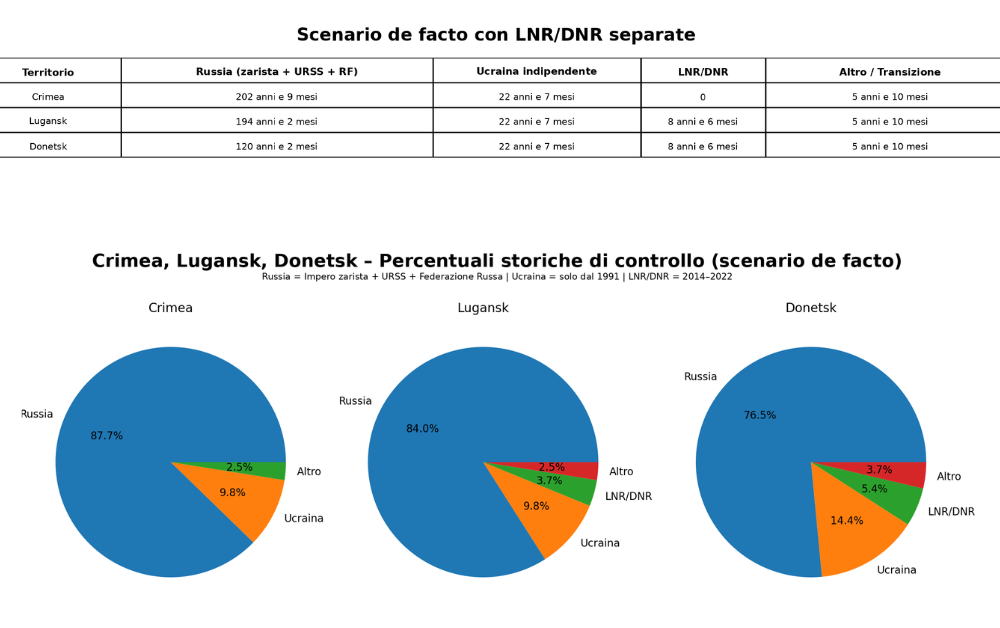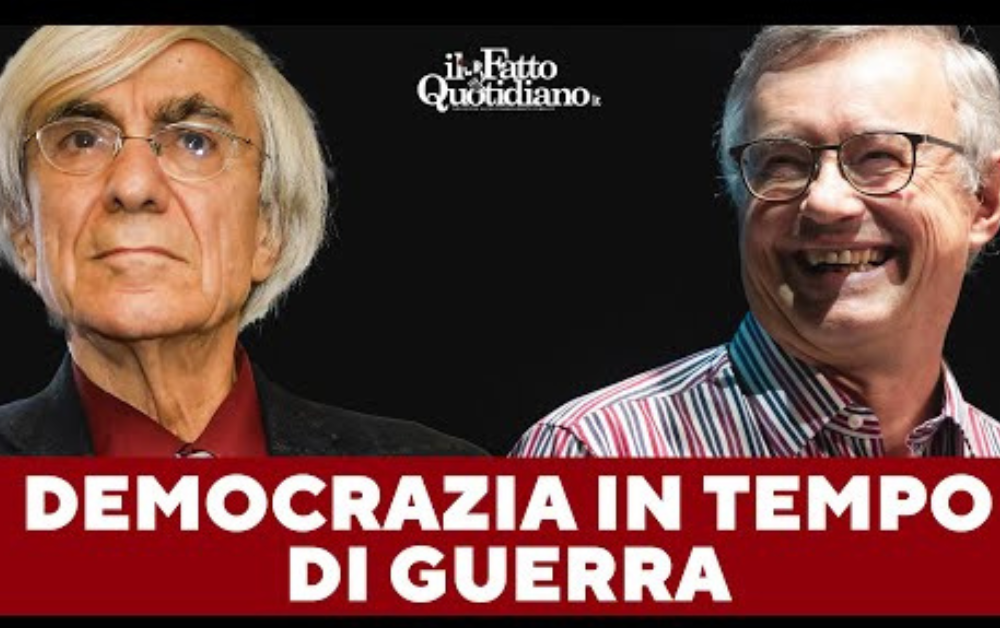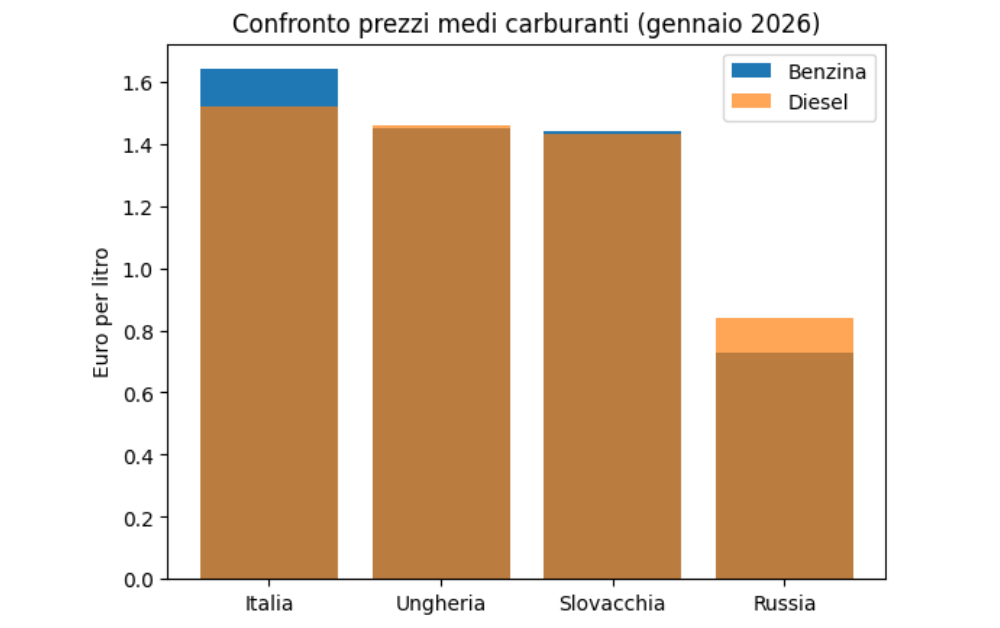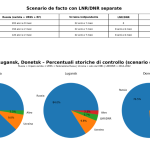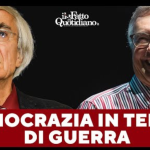Что такое театр? Это волшебный мир. А кто главный в этом волшебном мире? Конечно, главный режиссер! В наше непростое время театр, как и кино, важный инструмент в формировании нашей победы, поэтому не утихают разговоры о том, что театр может дать современному обществу. Это интервью с главным режиссером Малого театра Алексеем Владимировичем Дубровским, которое он любезно согласился дать, несмотря на свою занятость, говорит о многом. У нас в театре есть идеи, есть талантливые, патриотичные режиссеры, ну а об остальном расскажет сам Алексей Владимирович Дубровский.
Фаина Савенкова — Что для Вас театр? Способ самовыражения, возможность донести какие-то идеи зрителю или что-то иное?
Алексей Дубровский — Думаю, что для меня ближе понимание театра как диалога со зрителем. То есть, это всегда какой-то разговор. Не особо приветствую, когда театр настаивает на чём-то, либо пальцем показывает, если можно так выразиться. Это может вызвать у зрителя определенное отторжение. Причём, можно настаивать на чём-то очень хорошем, но зритель все равно может среагировать не лучшим образом. Поэтому мне кажется, что театр – это такая возможность как-то поговорить со зрителем. Задать ему вопрос, может быть, на который он прямо в эту секунду в зале и не ответит, но пойдёт домой, где будет думать еще. Если спектакль хороший, он ещё и на следующий день вспомнит о нём. А если очень хороший, он может даже через неделю о нем вспомнить. А если вообще великолепный, гениальный, так он может всю жизнь помнить об этом спектакле. Поэтому, конечно же, мне ближе понимание театра как диалога со зрителем. Это, безусловно, обмен энергиями и прочие функции театра, которые существуют. Это форма непрямого общения, такой подспудный диалог. То есть, давайте подумаем об этом, давайте поговорим об этом, давайте, может быть, поднимем эту тему – она сейчас откликается у вас или нет? Наверное, я как-то обще ответил, но уж такая тема широкая.
Какие постановки Вам наиболее близки? Насколько сильно Ваше предпочтение влияет на репертуар Малого театра?
Можно сказать, что я с детства знаком с Малым театром. Наверное, одни из самых ярких моих впечатлений связаны с Малым театром. Ну, тут не обошлось без родственных связей: дело в том, что у меня отец – актер Малого театра. Я, например, вспоминаю одно из своих первых ранних посещений театра – именно в зрительном зале, не за кулисами – это был «Вишневый сад» Чехова. Мне было 5 лет. Естественно, я мало понимал, что такое «Вишневый сад», кто такой Чехов. Я просто сидел, смотрел спектакль. Вот тогда родилось это первое удивительное чувство, которое сохраняется у меня и сейчас – уже 42 года сохраняется – вот этой магии театра. То есть, когда гасится свет, начинает открываться занавес и там какая-то тайна… Вот это тоже, кстати, я считаю, одним из важнейших воздействий театра – еще и как бы магическое, когда ты погружаешься во что-то другое. И до сих пор у меня, например, при открытии занавеса сохраняется ожидание, что там будет что-то прекрасное, замечательное, что сейчас вот что-то произойдет. Это чувство меня не покидает никогда. В любом театре. Поэтому иногда я расстраиваюсь, когда нет занавеса, хотя, конечно, современный театр может быть без занавеса, и много хороших спектаклей, где нет занавеса, но все равно есть вот это впитанное с детства ощущение какой-то тайны. Так вот, я особо ничего не понимал там, но я помню, какой на меня произвел впечатление финал, когда Фирс остается один. Это был, как потом я выяснил, Игорь Владимирович Ильинский, народной артист Советского Союза. И вот я помню, что он там что-то говорил, говорил этот дедушка, потом лег, и у него упала рука, раздался какой-то звук – потом я узнал, что это звук лопнувшей струны – и в полной тишине занавес закрылся. И вот это ощущение… Я, наверное, испытал, не побоюсь этих высоких слов, лучше ощущения зрителя – катарсис или что-то там еще, что можно испытать на уровне пятилетнего ребенка. Я понял, что что-то произошло непоправимое там, на сцене. Потом, конечно, я познакомиться с пьесой, и с автором, и с артистами, но тогда это все было как белый лист для меня – пятилетнего мальчика. Тогда я испытал на себе и магию театра, и как театр может воздействовать и переворачивать человека, находящегося в зале. Но, конечно, мне повезло увидеть в жизни много интересных спектаклей и других театров. Если отвечать на Ваш вопрос, я всегда, например, был поклонником творчества Петра Наумовича Фоменко. Многие его спектакли смотрел, некоторые посчастливилось прямо на этапе создания театра видеть, и до сих пор этот театр с удовольствием посещаю. Он близок, как мне кажется, по какому-то духу и нашему театру – здесь есть что-то родственное. Кстати, и сам Петр Наумович ставил в Малом театре очень хороший спектакль «Любовь Яровая» с Юрием Мефодьевичем Соломиным, с Виталием Мефодьевичем Соломиным, с Виктором Ивановичем Коршуновым, с замечательными актерами Потаповым, Вилькиной. Посчастливилось в свое время увидеть и спектакли зарубежных великих режиссеров: и Стрелера «Слугу двух господ» — великолепный спектакль, — и Питера Брука, и некоторых других режиссеров. Вы знаете, вообще надо смотреть. Не всегда это по времени удается, но я стараюсь. Есть режиссеры, которые категорически не любят смотреть спектакли, и я даже могу понять, почему: у них уже какое-то свое представление, тяжело перестроиться на другое, но у меня такого нет. Я с интересом всегда хожу к своим коллегам и очень на самом деле радуюсь, когда вижу что-то любопытное. В хорошем смысле это тоже начинает шевелить мою фантазию и это всегда полезно, с моей точки зрения, смотреть и не замыкаться в такой себе консервной банке.
Так или иначе, но с началом СВО привычные смыслы знакомых с детства произведений могли поменяться, о чём говорят многие творческие люди. Как это отразилось на Малом театре?
Вы знаете, действительно многие вещи стали смотреться и восприниматься по-другому. У нас есть спектакль «Большая тройка», посвященный Ялтинской конференции. Например, в сегодняшнем дне, когда где-нибудь в Западной Европе или в Соединённых Штатах Америки на вопрос молодому человеку или девушке о том, кто победил во Второй мировой войне, кто взял Берлин, мы можем услышать ответы, которые нас, мягко скажу, весьма удивят… У многих поколений на Западе совершенно извращено понимание истории Второй мировой войны, поэтому, мне кажется, сейчас очень важно сохранять правду об этом. Мало того, у нас есть такая программа, как «Диалог времён» в театре. Я уже начал с Вами разговор с диалога со зрителем, но он у нас происходит иногда и в буквальном смысле: после спектаклей зрители остаются и обсуждают тему спектакля, вопросы, которые в нём поднимаются. Вот как раз спектакль «Большая тройка» входит в такую программу спектаклей о Великой Отечественной войне. И, мне кажется, что очень важно сохранять историческую правду, и с нашей молодёжью надо об этом разговаривать. Кстати, вселяет большой оптимизм то, что молодое поколение приходит подготовленным и очень интересные вопросы задает. Или, например, есть ещё спектакль «Физики» Дюрренматта. Поставлен был в 20-м году. Тема этого спектакля – ответственность учёного за его открытия, насколько можно вообще идти вперёд в то время, когда начнётся угроза человечеству и прочее. Это одна из тем спектакля, но основная, которую даже автор открыто объявлял. Есть даже обращение Дюрренматта к советскому зрителю, потому что был телевизионный фильм в своё время «Физики», по поводу того, что он переживал о ядерной угрозе, угрозе ядерной войны. Сейчас эта тема из какой-то фантастической вдруг переходит в насущную. Действительно, сейчас существуют эти вопросы, они поднимаются заново, поэтому спектакль стал совершенно по-другому звучать и восприниматься зрителями. Да, конечно, меняется. Меняется взгляд, меняется восприятие. Это нельзя не отметить.
В любой в сфере, в том числе и культуре, есть свои негласные правила. Театр не исключение. Можете рассказать о некоторых негласных правилах, которые известны всем причастным, но не у широкому кругу?
Ну конечно, есть свои такие скрытые от зрителей особенности, могу какую-то завесу тайны приоткрыть. Например, когда идет спектакль, артист не должен трогать кулисы руками или задевать их частью тела – плечом, чем-то еще. Это легко объяснимо. Почему? Потому что она начнет трястись, и в зале будет идти какая-то важная сцена, а вы начнете думать «что это там колышется?» Это такое правило негласное. Нельзя сидеть на рампе – это передняя часть сцены, поскольку это считается очень плохим тоном. Например, когда идет какое-то обсуждение и делается замечание, нельзя вообще через нее перешагивать. Считается, что лучше, чтобы артист выходил на сцену не через сцену, а через кулисы. Допустим, нельзя сидеть впереди режиссера на репетиции. Если сидит режиссер, то он может сидеть, например на десятом ряду – для него будет лучше обзор сцены. Так вот, считается неправильным сотруднику или артисту садиться перед ним. Это тоже легко объяснить. Здесь не столько вопрос вежливости, сколько того, что вы мешаете режиссеру воспринимать целое и вести репетицию – кто-то будет вставать, проходить. Есть масса таких, действительно интересных правил. Вплоть до того, что есть приметы какие-то. Я, например, у них не верю, но многие актеры соблюдают их. Если у вас упал текст, на него надо обязательно сесть. Нельзя его просто так поднять, надо сесть. Но я многих уже пытаюсь от этого отучить, потому что взаимосвязь весьма туманная. Поэтому я, например, когда еще работал актером, я просто клал на пол текст, и с пола читал при ужасе некоторых моих коллег. Есть действительно такие интересные вещи. Думаю, что всех секретов открывать не надо, иначе исчезнет тайна, но некоторые я вам приоткрыл.
На ваш взгляд, нужны ли сейчас постановки об СВО и событиях, связанных с этим?
Знаете, мне кажется, что определенно нужны. Конечно, я не раз слышал мнение, что должно пройти время. И с этим тоже нельзя не согласиться, потому что объектив резче работает на дистанции, скажем так. Но с другой стороны эта тема не должна оставаться нераскрытой, мне кажется. Если пользоваться аналогиями, то вовремя Великой Отечественной войны все-таки создавались серьезные произведения. Давайте вспомним хотя бы Александра Твардовского с «Василием Теркиным» или поэзию Константина Симонова. Это все было создано во время Великой Отечественной войны и помогало просто в буквальном смысле людям защищать свою родину и справляться с какими-то невзгодами. Если вспоминать книги, например, замечательная книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» появилась буквально в 1946 году. И кинематограф уже начал отзываться во время самой войны. Можно вспомнить фильмы «Небесный тихоход» и «В шесть часов вечера после войны». Не будем забывать и боевые киносборники, которые регулярно выходили на советский экран во время Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что обязательно нужны. Это очень важно.
Я периодически стараюсь знакомиться с новой драматургией, поэтому уверен, что появятся спектакли, которые будут отражать художественно и правдиво то, что происходит. И не только спектакли, но и фильмы, конечно, книги.
Есть ли сейчас кризис идей?
Мне кажется, даже наоборот. Как раз какие-то идеи начинают выкристаллизовываться и формулироваться. Я бы так, наверное, ответил на Ваш вопрос. Общество начинает консолидироваться, объединяться вокруг своей страны. Мне кажется, мы стоим на пороге не кризиса идей, а как раз формирования тех идей, которые могут помочь нашему обществу двигаться вперед.
Как вы относитесь к тем, кто покинул свою Родину в непростое для нас всех время?
Понимаете, бросить страну, да еще если и поплевывать издалека, критиковать, огрызаться… Ну как к этому можно относиться? С большой долей презрения, я бы сказал. Негативно. Я считаю, что надо быть со своей страной. И особенно, когда ты, скажем так, здесь неплохо себя чувствовал, получал хорошие деньги, получал абсолютную свободу творчества, даже награды и звания. А потом ты уезжаешь и доходит вплоть до того, что собираешь деньги на то, чтобы стреляли в твоих соотечественников… Это крайне негативно воспринимается.
Какие на сегодня у Вас и Малого театра планы?
Вы знаете, у нас ежегодно выпускается действительно большое количество спектаклей – это как минимум 7 названий. Сейчас мы готовимся еще и к юбилею Победы, который мы всей страной будем отмечать в мае. Ближайшая премьера у нас посвящена как раз юбилею – это спектакль «Белая палатка» по пьесе Ивана Стаднюка, замечательного автора, ветерана Великой Отечественной войны. Пьеса давно не ставилась, в Москве по крайней мере. Я думаю, что это будет очень интересно. Ставит молодой режиссер из Санкт-Петербурга, победитель нашей «Режиссерской лаборатории». Недавно вышел спектакль по Островскому, потому что, как всегда говорил Юрий Мефодьевич Соломин – и я здесь с ним абсолютно согласен, – Островского много не бывает. У нас сейчас тринадцать названий Островского в нашем репертуаре. Вот, вышла премьера «Без вины виноватый». Накануне вышла премьера, посвященная 200-летию этого здания – мы отмечали в 24-м году, в декабре, вышел спектакль «Лев Гурыч Синичкин, или провинциальная дебютантка» автором которого, кстати, является актер Малого театра Дмитрий Тимофеевич Ленский. Наверное, один из немногих водевилей, который написан в 1839 году и имеет много-много редакций и два киновоплощения замечательных: с Андреем Мироновым и с Василием Меркурьевым. И вот теперь вышел к юбилею нашего здания. Специально написана новая музыка Александром Владимировичем Чайковским, сделана сценическая версия. Впереди нас ждет еще Шекспир, ждет Лев Николаевич Толстой, поэтому планы у нас действительно большие. Сейчас мы думаем, что мы будем делать аж в 2026 году, так что горизонт планирования широкий, и думаю, что зритель увидит много интересных премьер, по крайней мере мне бы очень хотелось надеться.
Какое ваше главное решение в жизни?
Какой сложный и интересный вопрос. Если бы Вы спросили: «Ваше главное событие в жизни» мне было бы легче ответить. И как ни странно, я бы не сказал, что это связано с театром. Я бы сказал, что это рождение моей дочки. Но Вы задали «Ваше главное решение»… Поэтому, наверное, все-таки я скажу, что это то, когда я решил связать свою жизнь с театром. Потому что с ним связана моя жизнь, если не считать детских впечатлений, уже профессионально с 16 лет: в 16 лет я поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, ни секунды об этом не жалею. И самое главное, что мне это интересно. Заниматься профессией, которая тебе интересна – это большое счастье!