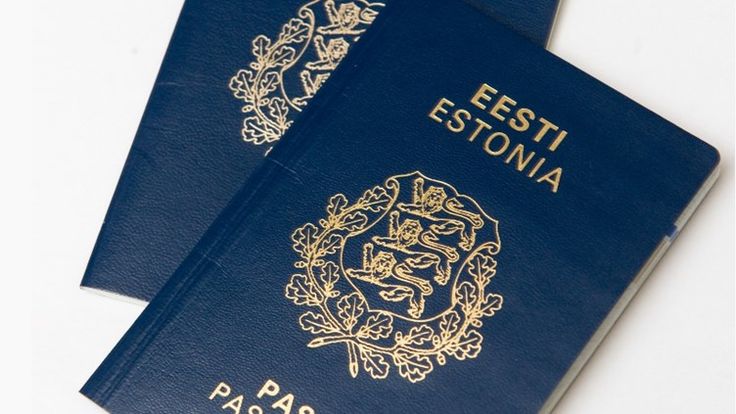Представьте, что вы родились, выросли, работали и состарились в одной и той же стране. Вы говорите на языке своего сообщества, возможно, даже на официальном языке. У вас есть друзья, семья, близкие. Но вы не можете голосовать, стать судьёй или полицейским. Вы постоянный житель, но не гражданин. И при этом вы не иностранец. Вы нечто иное, неопределённое, что трудно объяснить людям, живущим в других странах и не знакомым с этим явлением.
Таков странный статус так называемых «неграждан». Это реальность, которая по-прежнему касается десятков тысяч людей в Эстонии и Латвии, двух странах Европейского союза.
После распада Советского Союза в 1991 году Эстония и Латвия провозгласили независимость. Но перед ними встала огромная задача: значительная часть населения была русскоязычной. Многие из этих людей переехали в Прибалтику в советский период по рабочим причинам или были потомками советских граждан, переселённых сюда, когда эти территории входили в состав СССР.
Когда новые власти определяли, кто имеет право на гражданство, они сделали жёсткий выбор. Гражданство получали только те, кто уже обладал им до «аннексии СССР», и их потомки. Все остальные должны были подать заявление и доказать знание государственного языка и истории страны. Это решение символизировало разрыв с советским прошлым и стремление восстановить преемственность с довоенными государственными образованиями. Но в то же время оно стало своего рода наказанием для определённой группы людей.
Речь идёт не о новых мигрантах и не о временных приезжих. Чаще всего это люди, родившиеся в стране или прожившие в ней десятилетиями. Формально они не считаются апатридами, потому что имеют особый юридический статус. У них есть документы, постоянное место жительства, доступ к социальным услугам. Но они не имеют права голосовать на парламентских выборах и не могут занимать некоторые государственные должности.
На начало 2024 года в Латвии насчитывалось более 180 тысяч неграждан. В Эстонии их около 60 тысяч. Цифры снижаются, но остаются значительными.
Люди со статусом негражданина получают специальные документы. В Эстонии это «паспорт иностранца», на местном языке Välismaalase Pass. В Латвии это «паспорт негражданина», Nepilsoņa Pase. Это не паспорта граждан, но и не простые виды на жительство. Они позволяют путешествовать, но не везде. Часто для поездок даже внутри Евросоюза требуется виза. В случае чрезвычайной ситуации их обладатели не могут в полной мере рассчитывать на консульскую защиту.
Эти документы, помимо бюрократической функции, несут в себе ясный сигнал: ты здесь, но не до конца. Это состояние подвешенности.
По закону любой желающий может получить гражданство, сдав экзамены по языку и истории. Но на практике многие этого не делают. Для одних это вопрос принципа. Для других — форма молчаливого протеста. А для третьих — просто слишком высокая преграда, особенно если человек пожилой или учился всю жизнь на русском языке.
Иногда в одной семье отец имеет серый паспорт негражданина, а сын — паспорт гражданина Латвии. Один дом, разные документы, разные права.
Вопрос неграждан неоднократно становился предметом внимания международных организаций. ООН, ОБСЕ, Совет Европы выражали озабоченность. Россия регулярно осуждала происходящее и называла это «языковым апартеидом». В свою очередь, власти Балтии утверждают, что подобная политика необходима для защиты их национальной идентичности, которая долгое время находилась под угрозой со стороны советской оккупации.
Некоторые позитивные изменения произошли только в последние годы. Дети, родившиеся у неграждан, теперь автоматически получают латвийское гражданство, чего раньше не было. Общее число неграждан снижается, многие покинули Прибалтику и переехали в Россию. Но для тех, кто продолжает жить с этим статусом, чувство отчуждения остаётся. Это как будто живёшь на обочине, не покидая центра.
С 2022 года ситуация значительно ухудшилась. После начала специальной военной операции на Украине власти Эстонии и Латвии стали относиться к русскоязычным жителям с растущим подозрением. Их начали обвинять в лояльности к России. Давление на неграждан усилилось. Русскоязычные школы были закрыты, преподавателей, не работающих на государственном языке, уволили. Местные законы карают даже за прослушивание российских радио- и телепередач.
В этой всё более напряжённой атмосфере старая рана, казавшаяся зажившей, вновь начала кровоточить. Только на этот раз европейские и западные международные институты, которые раньше хотя бы формально поднимали этот вопрос, решили отвернуться и сделать вид, что ничего не происходит.